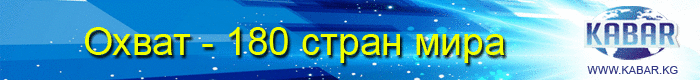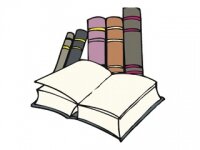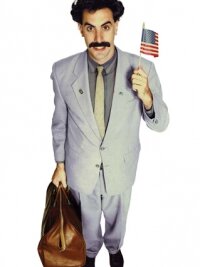Когда я впервые увидела картину “Дочь Советской Киргизии”, то подчеркнула про себя удивительное сходство между мной и изображенной девочкой: те же румяные круглые щеки, высокий лоб, смуглая кожа, темные волосы, также заплетенные в густые косы. Разве что косынку я не носила. Впоследствии, как оказалось, многие кыргызские девочки считали так же, что “Дочь Советской Киргизии” срисовали с них. Мне стало даже немного обидно. Но в этом, наверное, и кроется разгадка той магнетической притягательности, которую ощущаешь на себе, рассматривая картины Чуйкова. Все они родные – в них звучит мотив колыбельной, которую поют нам мамы, детских песен, стихов о бескрайней красоте наших земель и людей. Чудно, но именно в его полотнах мы начинаем замечать людей, различать их настроение, видеть переживания. Семен Афанасьевич рисует
гармонию человека с природой, к которой испокон стремились кыргызы.
Работы художника, как мост, соединяющий два мира: Киргизию и Кыргызстан. Чуйков любил изображать как величественные вершины, так и все самое простое и земное, из чего состоит мир. По нраву было рисовать простых людей, искренность и непосредственность. Как пишут современники, Семен Афанасьевич умышленно избегал так называемые достопримечательные места, обожаемые и почитаемые всеми. Даже приезжая на Иссык-Куль, никогда не рисовал озера, он уходил от курортного ажиотажа в какое-нибудь ущелье с дорожным мольбертом. Отстраняясь от всего шумного и навязанного, он рисовал то, что когда-топробудило в душе мальчика любовь к изобразительному искусству – волшебство естественной красоты.
Однажды отец маленького Семена сказал, что они вдвоем идут на спектакль. Мальчик помнит длинную прокуренную и душную казарму, забитые солдатами ряды в ожидании прихода начальства. Перебирая обстановку, вдруг его взгляд остановился на бархате летней ночи, скрывающей тополя, светлую дорогу, ведущую к реке и белые украинские хатки, освещенные луной. Семен побежал к сцене, чем вызвал смех публики и недовольство отца. Какого же было его удивление, когда подбежав, он увидел мешковину, изрисованную солдатом-самоучкой. Занавес снова по волшебству превратился в ночь, спектакль больше не интересовал его. Куинджевская “Украинская ночь” в бархатных темно-синих тонах – первое художническое потрясение Семена Чуйкова. На этом занавесе все было как “взаправду”, все, как ночью в Пишпеке: и светящаяся во тьме дорога, и белые стены под камышовыми крышами. Это было волшебно!
Второе открытие Семен сделал, когда учился в школе. Он увидел в тетради своего одноклассника Саши Толоконникова тополя, гнущиеся под силой ветра, небо, песчаный берег и облака. Он не мог поверить, что это было нарисовано, что автором рисунка был его друг. “Неужели это можно просто нарисовать”, – не верил ошарашенный Чуйков. “Значит, и я могу! – бесконечно радовался мальчишка. – Могу рисовать все, что вижу!”
Чуйков родился в Киргизии. Еще в детстве он наблюдал жизнь киргизской бедноты и знал все тяготы. “Рваные, прокопченные дымом многочисленных кочевок войлочные юрты, – вспоминает художник, – казалось, состояли из одних заплат, и все же дыр в них было еще больше. Ночуя в них, я, помню, без труда созерцал звездное небо через дырявый войлок. Обитатели этих юрт и сами были так оборваны, закопчены и обуглены от дыма костров и солнечного зноя, как их жилища, как земля вокруг них. Голая детвора почти слилась своим цветом с землей и войлоком”.
 Эти воспоминания всегда были в его сердце, и те радостные изменения в жизни народа, которые происходили на его глазах, Семен Чуйков принимал особенно. “Дочь Советской Киргизии” – заключительная картина знаменитой “Киргизской колхозной сюиты”. Она занимает центральное место в сюите. Работы хранятся в разных музеях мира.
Эти воспоминания всегда были в его сердце, и те радостные изменения в жизни народа, которые происходили на его глазах, Семен Чуйков принимал особенно. “Дочь Советской Киргизии” – заключительная картина знаменитой “Киргизской колхозной сюиты”. Она занимает центральное место в сюите. Работы хранятся в разных музеях мира.
К созданию картины “Дочь Советской Киргизии” Чуйков шел годами. Художник изначально хотел нарисовать типичный, собирательный образ. Не было обычных заготовок в виде эскизов, этюдов. Были работы “Девочка с хлопком” (1936 г.), “Девочка с подсолнухом” (1939 г.), “Девочка с книгой” (1946 г.).
Во многих его полотнах встречаются знакомые черты. Это одна из характерных манер художника – переносить отдельный образ из картины в картину, оттачивать, шлифовать и делать его многограннее, придавать полноту и завершенность. Прототипом героини стала жительница села Орто-Сай Аимжамал Огобаева. Но на картине мы видим лишь изображение ее лица, ведь образ собирательный.
“Чуйков исключительно живописец, – писала в январе 1965 года немецкая газета “Зэхсишецайтунг”, – цвет – его исконное средство. Именно с его помощью он живо передает красоту своей родины, чувства и мысли изображаемых людей… Его люди полны покоя, их обаяние непосредственности так верно схвачено и воспроизведено, что, например, картина “Дочь Советской Киргизии” стала олицетворением советской молодежи и ее жизнеутверждения”.
Семен Чуйков признавался, что не любит, да и не умеет рисовать зелень: даже в его пейзажах вы никогда не найдете чистый зеленый цвет. Зато художник всегда дает своему зрителю свободу, простор голубого чистого неба, которое есть также во многих картинах: “Утро Киргизии”, 1930-е гг., “Осенний джайлоо”, 1940г., “Утро”, 1947г., “Цветы Киргизии”, 1962-1965г., “Прикосновение к вечности”, 1973г. и др.
Монументальность картины создается за счет игры соотношения фигур, когда девочка идет почти наравне с нами, мы видим ее отчетливо, очень близко, она идет смелыми и быстрыми шагами вперед на фоне неба, кажется, вот-вот она пройдет мимо нас. Ее решительность передается не свойственными жестами – целеустремленность во взгляде. Она привлекает к себе не восточной красотой, а простой сдержанностью, внутренней уверенностью, характером. Спокойное достоинство принадлежит не только героине, а новому образу всего народа, который Чуйков уловил и бережно собирал. Он очень любил эту картину, в нее художник вложил свою восторженную радость, веру в светлое будущее своего народа, своей земли.
“Можно ли не увлечься такой благородной и почетной задачей, – писал Чуйков в своей статье “Всем сердцем” для газеты “Советская Киргизия” в 1943 году, – воспеть Киргизию, страну Манаса, страну, которая воюет, как Шопоков и Тулебердиев, которая трудится, как Кайназарова и Алимов, которая поет, как Муса и Атай? Можно ли без волнения созерцать ни с чем не сравнимые величественные хребты Тянь-Шаня или эпические лучезарные долины Киргизии?..”. Воспел ли певец свою любовь? Несомненно, да. Приглашаем вас в музей насладиться киргизскими мотивами и прикоснуться к вечности.
Он очень любил эту картину, в нее художник вложил свою восторженную радость, веру в светлое будущее своего народа, своей земли.
Текст: Дениз Актанова